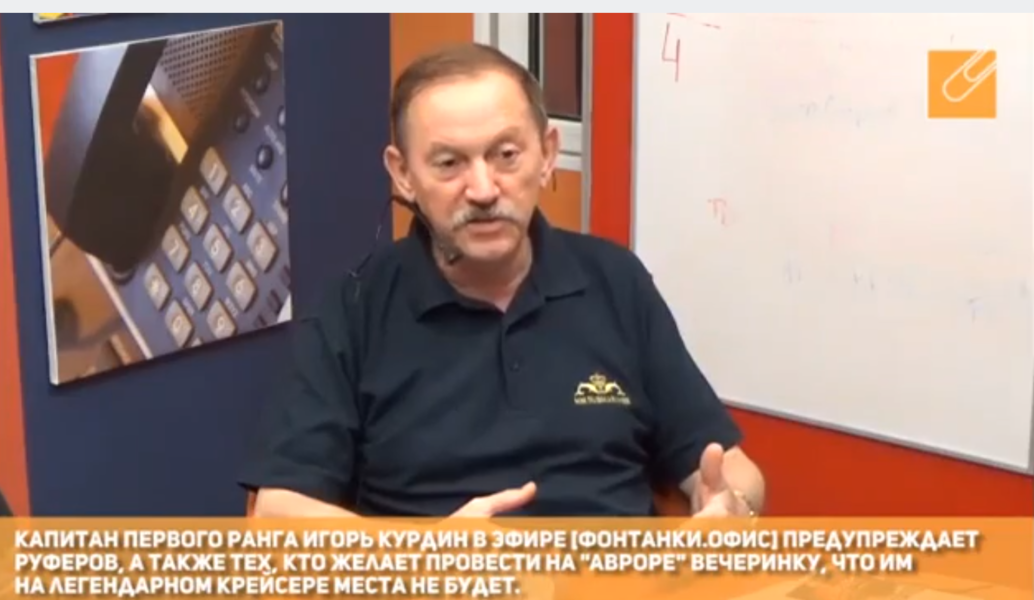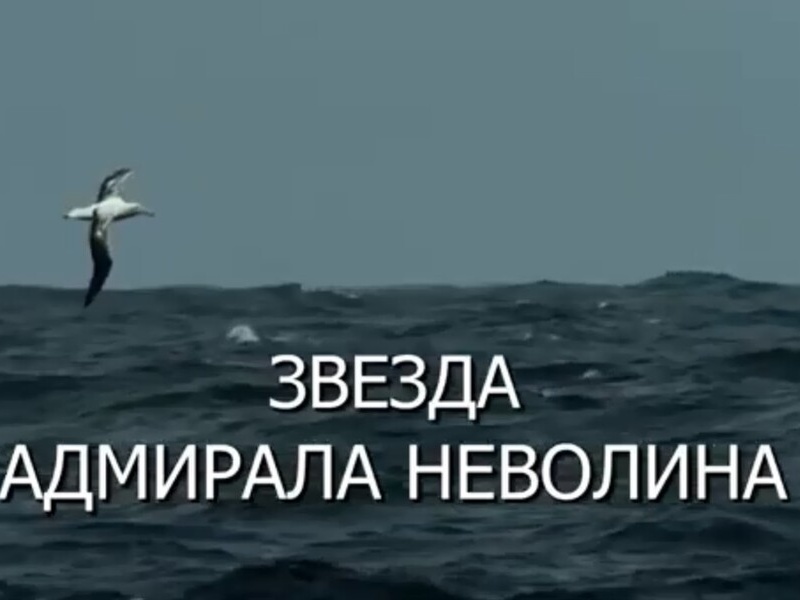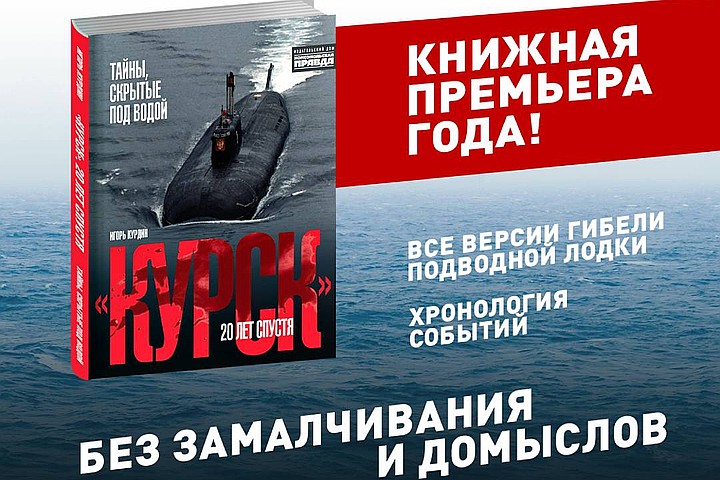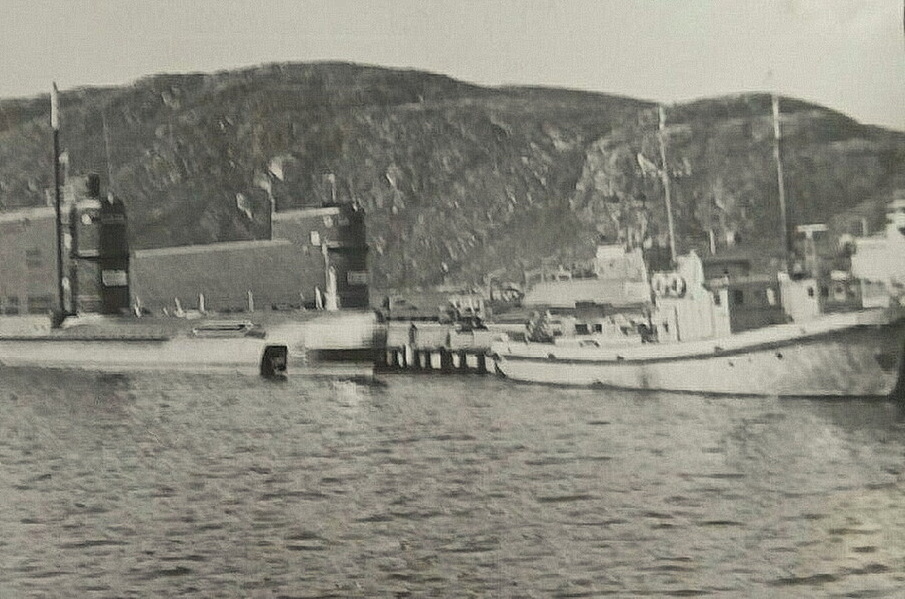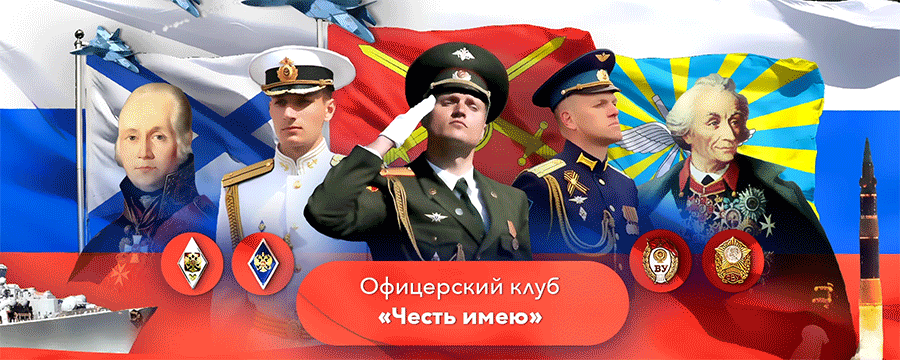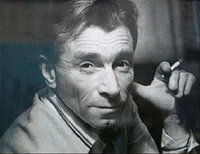 Виктор Викторович Конецкий
Виктор Викторович Конецкий
Пройдя непростой путь в своей морской карьере в военном и торговом флоте, обойдя множество раз только Северным морским путем и совершив три раза «полную кругосветку», при этом побывав на всех континентах, кроме Канады и Австралии, Конецкий «большую часть морской жизни плавал в Арктике» (Конецкий В. В. Эхо (Вокруг и около писем читателей)). Он прошел путь от четвертого помощника капитана до капитана дальнего плавания, получив диплом в 1983 году. На капитанском мостике он безукоризненно соблюдал кодекс морской чести, морского братства. В беседе с Николаем Кавиным, отвечая на его вопросы, он сформулировал свои размышления над ролью человека, занимающего место на капитанском мостике:
«Корр.: В предисловии к одной из ваших книг есть такая фраза: “Рефлексирующему Гамлету не место в море, во флоте”.
В. К.: Совершенно точно: не место ему там, потому что он свой пароход утопит. Капитан должен думать о том, как привести судно туда, куда надо, и в нужный срок, и чтобы не потерять ни одного человека, и чтобы сохранить груз в целости и сохранности, и чтобы судно само было у него в порядке. Ему, капитану, тем более совершенно не до всяких рефлексий. Он весь в заботах: и наяву, и во сне, и когда угодно он слышит и чувствует то, что происходит на корабле. Без этого он не будет капитаном.
Корр.: То есть вопрос “быть или не быть” не может стоять перед капитаном. Он должен быть очень энергичным, целеустремленным, быстро и решительно принимать решения.
В. К.: Он должен только “быть”, и “быть”, и “быть”… Крепко быть, реально быть, и чтобы каждый человек на судне каждую секунду ощущал, что рядом с ним капитан, что он может быть и ласковым, может спасти его от гибели. И в то же время он может взять за шкирку и сделать из него бифштекс, выбросить с судна на берег и в любом порту отправить на родину. И это каждый из экипажа знает.
Ну естественно, эти капитанские качества вырабатываются длительным трудом на море и постепенным движением по должностной лестнице, начиная с четвертого помощника капитана. Да, вообще-то, мы все начинали с матросов. Без этой школы настоящего моряка не получится».
Как руководитель коллектива, как писатель, Конецкий не мог не задумываться над психологией поведения капитана: «Море — это стихия, а стихия требует правды: если я буду обманывать экипаж, то мы все погибнем. Я могу врать на собраниях, но не могу врать на капитанском мостике. Это впитывается в плоть и кровь. Море мне помогало и в литературе держаться ближе к правде.
На море я с шестнадцати лет. И все это время был в коллективе. А когда так тесно живешь с людьми, надо уметь их понимать, прощать мелкие недостатки, стараться подладиться под них, если что-то в тебе раздражает. То есть все время находиться как бы в режиме саморегулирования по отношению к окружающему миру».
Профессия моряка требовала порядочности, исполнения долга, совестливости в отношении к делу и к людям. Для капитана Конецкого эти понятия всегда имели цену, тем более что он не понаслышке знал, какие сложности ожидают людей, стоящих на капитанском мостике: «Капитаны нынче редко доживают до пенсии. Мрут от инфаркта на мостиках. Количество судов на морских путях увеличивается, размеры судов растут, скорости увеличиваются, грузы становятся опаснее. Напряжение дикое».
При этом, не раз размышляя о падении нравственности не только в обществе, но и на флоте, он объяснял это тем, что «каждая клетка советского капитана от Владивостока до Калининграда была пропитана страхом. Один раз в Москве щелкнут бичом — и все станут во фрунт и запоют “Интернационал”. Только один раз надо щелкнуть. И не питайте никаких иллюзий. Кто рискнет поднять голос против смелости и искренности? Однако инерция толпы — это инерция стада, которое уже никто никуда не гонит и кнут над которым, может быть, уже не свистит, а стадо как начало свой бег, так куда-то и лупит во всю ивановскую».
Виктор Конецкий знал, что при всем при этом «и военный, и торговый флоты долго сопротивлялись Системе, ибо служат и работают в чужеродной человеку стихии, а стихии не терпят лжи.
Десятилетиями страна одно говорила, другое думала. Но если я одно буду командовать, а другое думать в разгар шторма, то окажусь на грунте весьма быстро». Знал он и то, что «еще до технического развала флот начал разваливаться нравственно.
Я знаю несколько случаев, когда капитан, получив “SOS” с аварийного судна, не менял курс и не следовал ему на помощь. И это русские моряки! За подобное на море положена уголовная ответственность, а в случае удачной спасательной операции — крупная материальная награда. Но сколько за этой наградой по международным судам толкаться будешь! А чтобы отвертеться от наказания за уклонение от помощи гибнущему судну, у меня тысячи причин и поводов найдется — тут уж будьте уверены!
Эх, это наше знаменитое “как бы чего не вышло!”. Мне же спускать шлюпки в штормовой океан, морячков высаживать, буксир заводить, пожар на чужом, незнакомом пароходе тушить! А если я своих людей погублю, свой корабль искалечу? Зачем мне это нужно? Расставаться с партбилетом и уходить на берег?.. Нет, не принял мой радист “SOS” — пролопушил, магнитная буря ему уши заткнула. Так я и запишу в судовой журнал. Для прокурора главная бумажка».

Неслучайно так при последней встрече в Париже в январе 1987 года Виктора Конецкого с Виктором Платоновичем Некрасовым он прочитал ему стихотворение судового врача и поэта Яна Карловича Вассермана «Залив Креста», которое тот прислал ему в письме:
Когда чей-то борт
Пробивает чужими форштевнями,
Иль штормом суденышко
Бросит на скалы, на мель...
Вообще тема развала русского флота в 90-е годы ХХ века была для Виктора Конецкого «самой большой трагедией жизни», очень «болезненной», так как именно его «поколение превратило Северный морской путь в нормально действующую морскую магистраль». Он хорошо знал историю покорения Антарктиды и Антарктики русскими моряками-первопроходцами и гордился их мужеством и патриотизмом. Эти черты были присущи капитану Конецкому, который был уверен, что «море и небо неразрывно связаны», а «человек чувствует потребность посмотреть на звезды. А они лучше всего видны с корабля». Он всегда верил в Россию: «Я глубоко убежден в том, что фасад России был, есть и будет обращен на Север, к Северному полюсу. Флот возродится, ибо Россия — великая океанская держава. И тот, кто не понимает этого, — обязательно проиграет, хотя расплачиваться, конечно, будет народ. Это же парадокс — но у великого народа отсутствует чувство простора! Ощущение огромности мира и своего в нем достойного места. Отсюда, я уверен, тоже проистекают наши экономические беды».